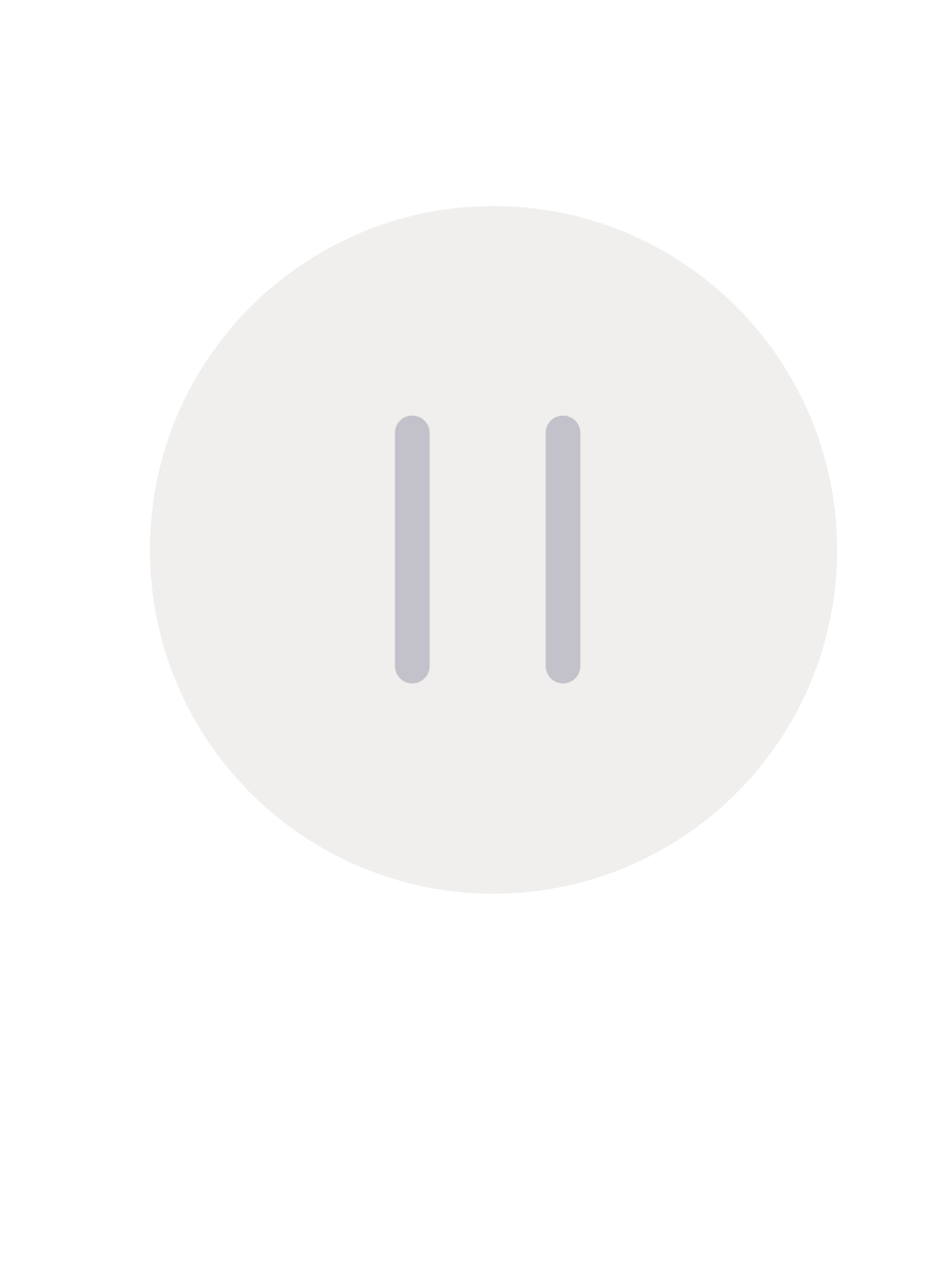


Когда на праздники и гуляния бергульские красавицы плетут венки и ленты в косы,
надевают нарядные шубейки и станухи,
да с песней идут к воде венки эти пускать,
тогда волнуется Тара.
надевают нарядные шубейки и станухи,
да с песней идут к воде венки эти пускать,
тогда волнуется Тара.
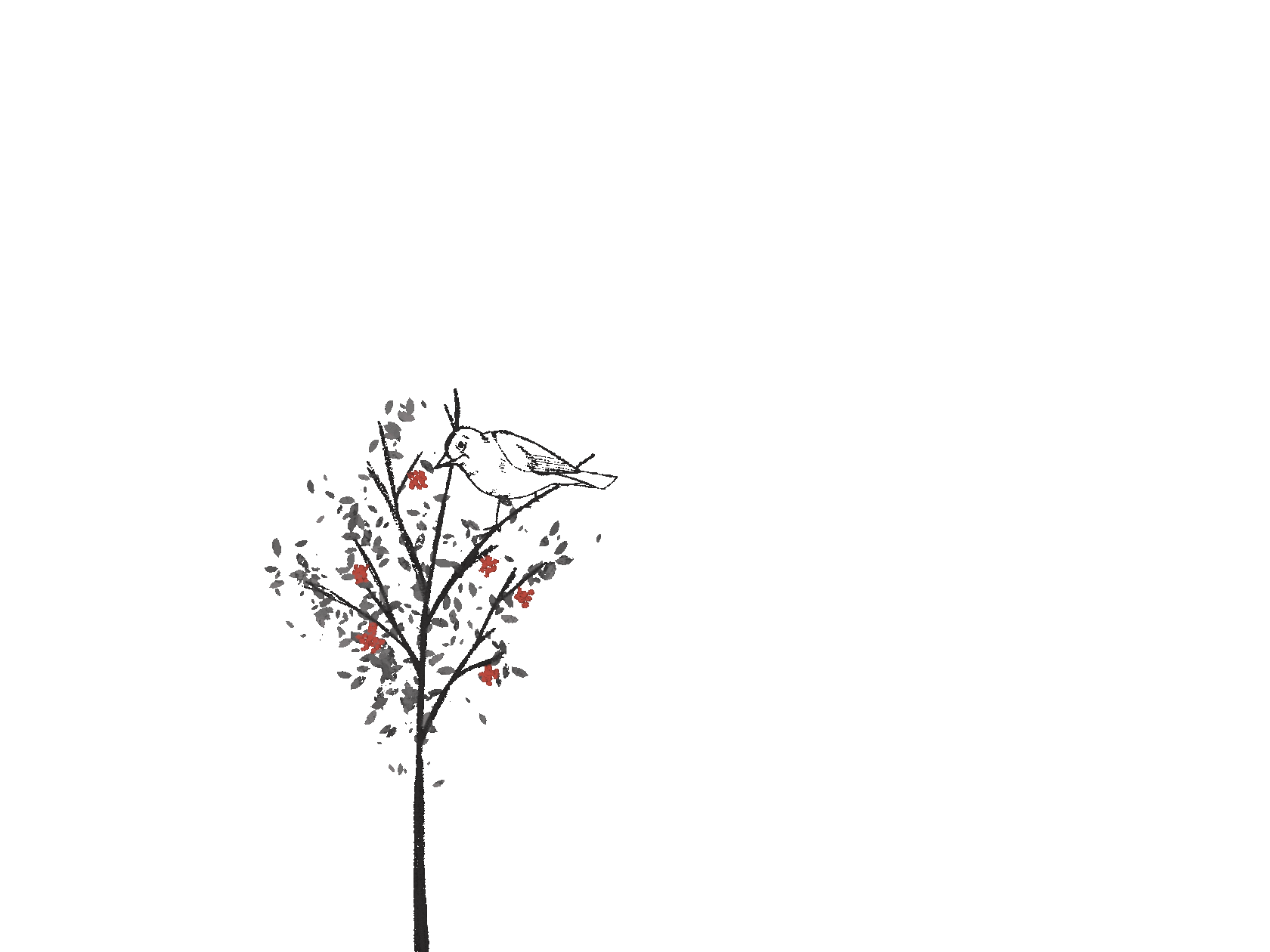
На взгорок над Тарой у устья быстроструйного холодного Бергулька́ пришли три бородатых мужика. Осенив себя двоеперстием, присели. Помолчали, усталые.
«Кажись, по край света зашли: дальше итить некуда», — изрёк старший.
«По всему видать, некуда», – согласился другой.
Самый младший, брат приходского священника, погладил широкой ладонью клинышек бороды:
«И незачем, — подтвердил-затвердил. — Сколь болот одолели, пока добрались. Тут можно души свои спасать
от мирской скверны».
«Кажись, по край света зашли: дальше итить некуда», — изрёк старший.
«По всему видать, некуда», – согласился другой.
Самый младший, брат приходского священника, погладил широкой ладонью клинышек бороды:
«И незачем, — подтвердил-затвердил. — Сколь болот одолели, пока добрались. Тут можно души свои спасать
от мирской скверны».
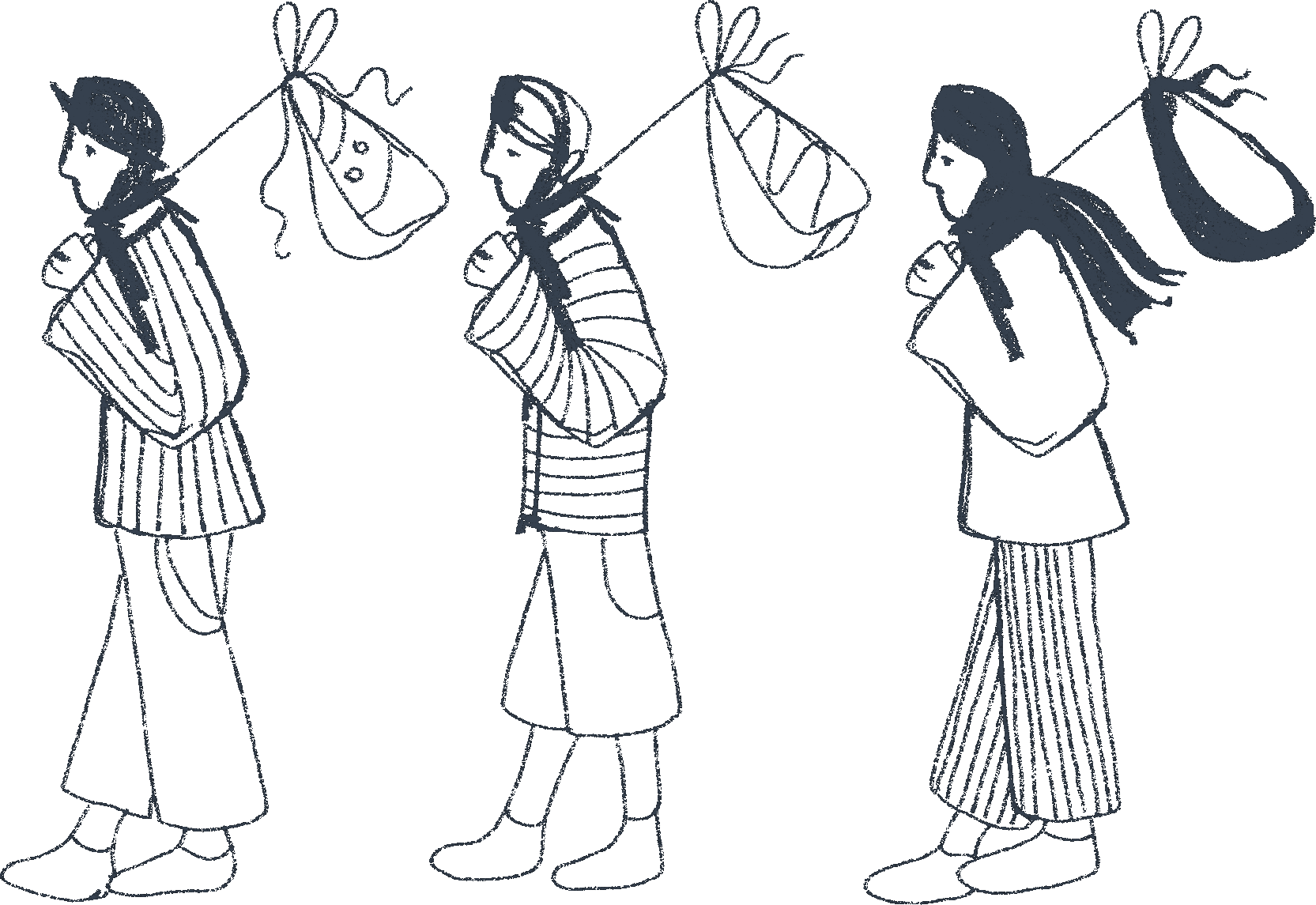
Было это в 1903 году. Место для пристанища выбирали ходоки старообрядческой общины, шедшие
из Беларуси.
Встретила их сибирская земля туманными болотами, густым лесом со зверем непуганым и ягодой душистой. Местные — коренные сибиряки — жили привольно,
не теснились, ставили дворы, как кому вздумается.
И раздавались стук топора и песни соловьиные на весь Каинский уезд Ново-Николаевской губернии.
из Беларуси.
Встретила их сибирская земля туманными болотами, густым лесом со зверем непуганым и ягодой душистой. Местные — коренные сибиряки — жили привольно,
не теснились, ставили дворы, как кому вздумается.
И раздавались стук топора и песни соловьиные на весь Каинский уезд Ново-Николаевской губернии.
Переселенцы из Беларуси пришли сюда со своей посудой: везли крынки, черёпки, кувшины. В Бергуле́ глина плохая, и изделия местных жителей отличаются толщиной и техникой — здесь посуда сделана вналёп, чтобы была прочнее. Но не только посуду принесли
с собой кержаки — так себя называли ищущие уединения на Сибирской стороне староверы.
Со своим Богом пришли старообрядцы в Бергу́ль,
для него стали жить. И кержаками они сами себя прозвали, нет такой народности, и не сохранилась она.
Сейчас в Бергуле и не встретишь этого слова, разве что
в разговоре со старожилами. Они ещё молельный дом помнят, что на берегу Тары стоял.
с собой кержаки — так себя называли ищущие уединения на Сибирской стороне староверы.
Со своим Богом пришли старообрядцы в Бергу́ль,
для него стали жить. И кержаками они сами себя прозвали, нет такой народности, и не сохранилась она.
Сейчас в Бергуле и не встретишь этого слова, разве что
в разговоре со старожилами. Они ещё молельный дом помнят, что на берегу Тары стоял.


Слепить кувшин


Свечи катали сами. На освещение дома их уходило много, особенно
в долгие зимние вечера. А хранили свечи в чугунных ящичках-сундучках, сейчас уже таких
и не встретишь, только
в закромах у местных.
в долгие зимние вечера. А хранили свечи в чугунных ящичках-сундучках, сейчас уже таких
и не встретишь, только
в закромах у местных.
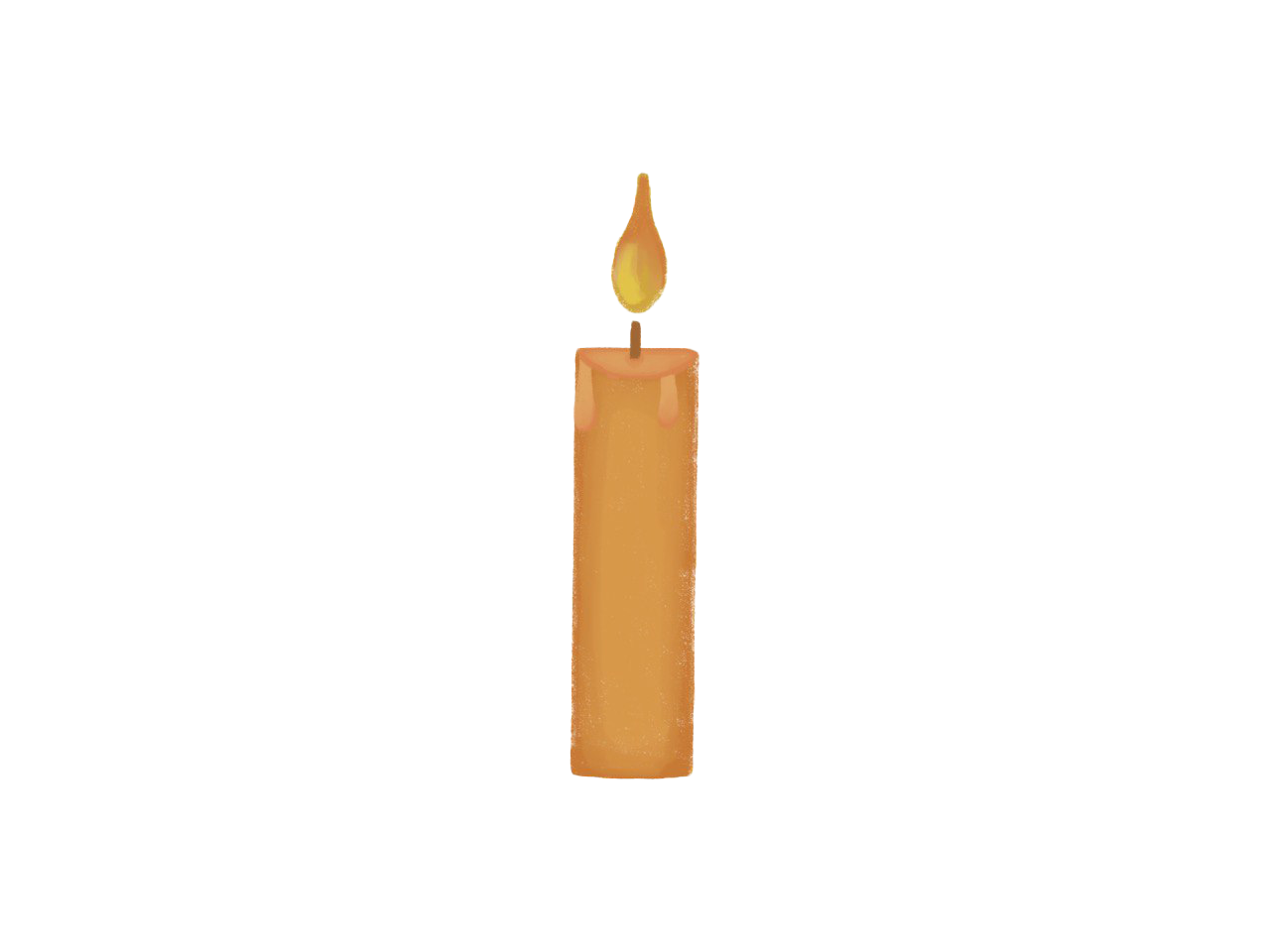

Алексей Логинович Старков — один из старейших жителей Бергуля́, родился в 1940 году. Родители его поженились в 1931,
на свадьбу молодожёнам подарили иконы: невесте — икону
Девы Марии, отцу — Христа. Алексей Логинович хранит эти иконы как реликвию.
на свадьбу молодожёнам подарили иконы: невесте — икону
Девы Марии, отцу — Христа. Алексей Логинович хранит эти иконы как реликвию.



Перед Пасхой староверы постились. Зато потом
на праздничный стол нажаривали яичницу и доставали облива́нное молоко. Его готовили
из скопленного в пост кипячёного молока и сваренного в печи творога.
на праздничный стол нажаривали яичницу и доставали облива́нное молоко. Его готовили
из скопленного в пост кипячёного молока и сваренного в печи творога.

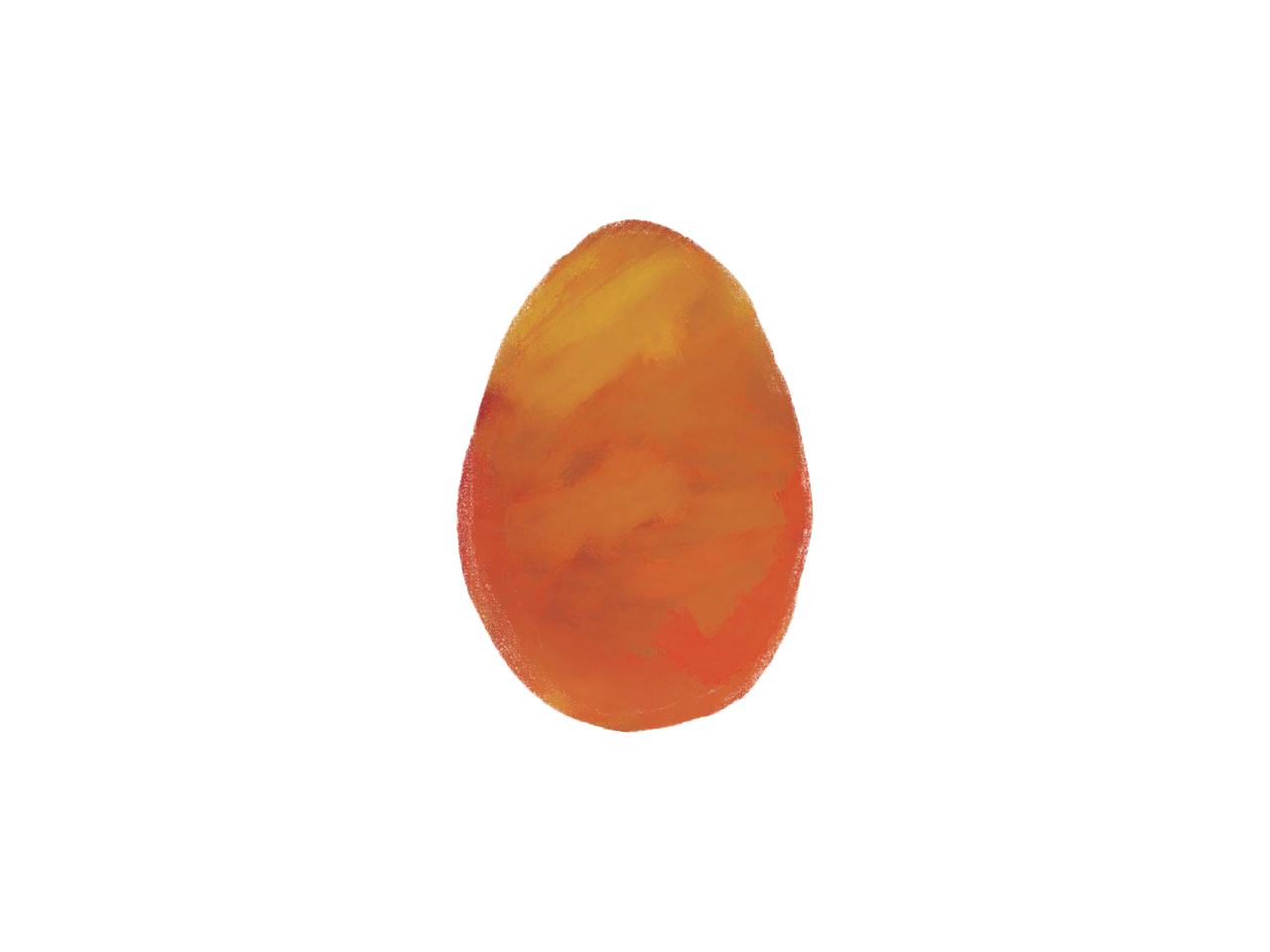
На Пасху к Божничке клали раскрашенное яичко и веточку вербы. Хранили яйцо до следующей Пасхи. Примета есть, что если случится пожар, надо с этим яйцом обежать вокруг дома три раза,
и огонь отступит. Вот так и жили,
с Божьей помощью.
и огонь отступит. Вот так и жили,
с Божьей помощью.

Все люди́ живут,
как цвяты цвятут.
А я молода —
вяну, как трава.
Кину, брошу мир —
по́йду в монастырь.
Там я буду жить —
всем людя́м служить.
как цвяты цвятут.
А я молода —
вяну, как трава.
Кину, брошу мир —
по́йду в монастырь.
Там я буду жить —
всем людя́м служить.
Не все традиции сохранились в Бергуле,
но молодое поколение подхватывает часть обычаев. Духовное родство бергульцев
не даёт забыть христианские корни.
Здесь в каждом соседнем дворе
кто-то кому-то лёлька или крестник.
На церковные праздники собираются всем селом и проводят их шумно и весело.
Дети особенно любят ходить по дворам колядовать и славить и на Пасху яичком биться. Взрослые тоже гуляний ждут —
с песней по селу пройтись и праздник
в каждый двор зазвать.
И всё с песней да духовными стихами.
но молодое поколение подхватывает часть обычаев. Духовное родство бергульцев
не даёт забыть христианские корни.
Здесь в каждом соседнем дворе
кто-то кому-то лёлька или крестник.
На церковные праздники собираются всем селом и проводят их шумно и весело.
Дети особенно любят ходить по дворам колядовать и славить и на Пасху яичком биться. Взрослые тоже гуляний ждут —
с песней по селу пройтись и праздник
в каждый двор зазвать.
И всё с песней да духовными стихами.
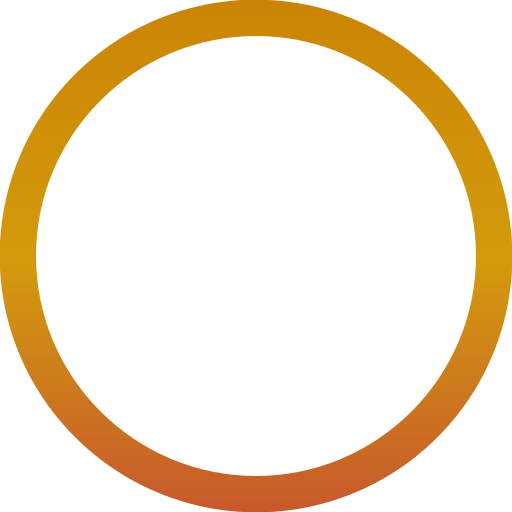
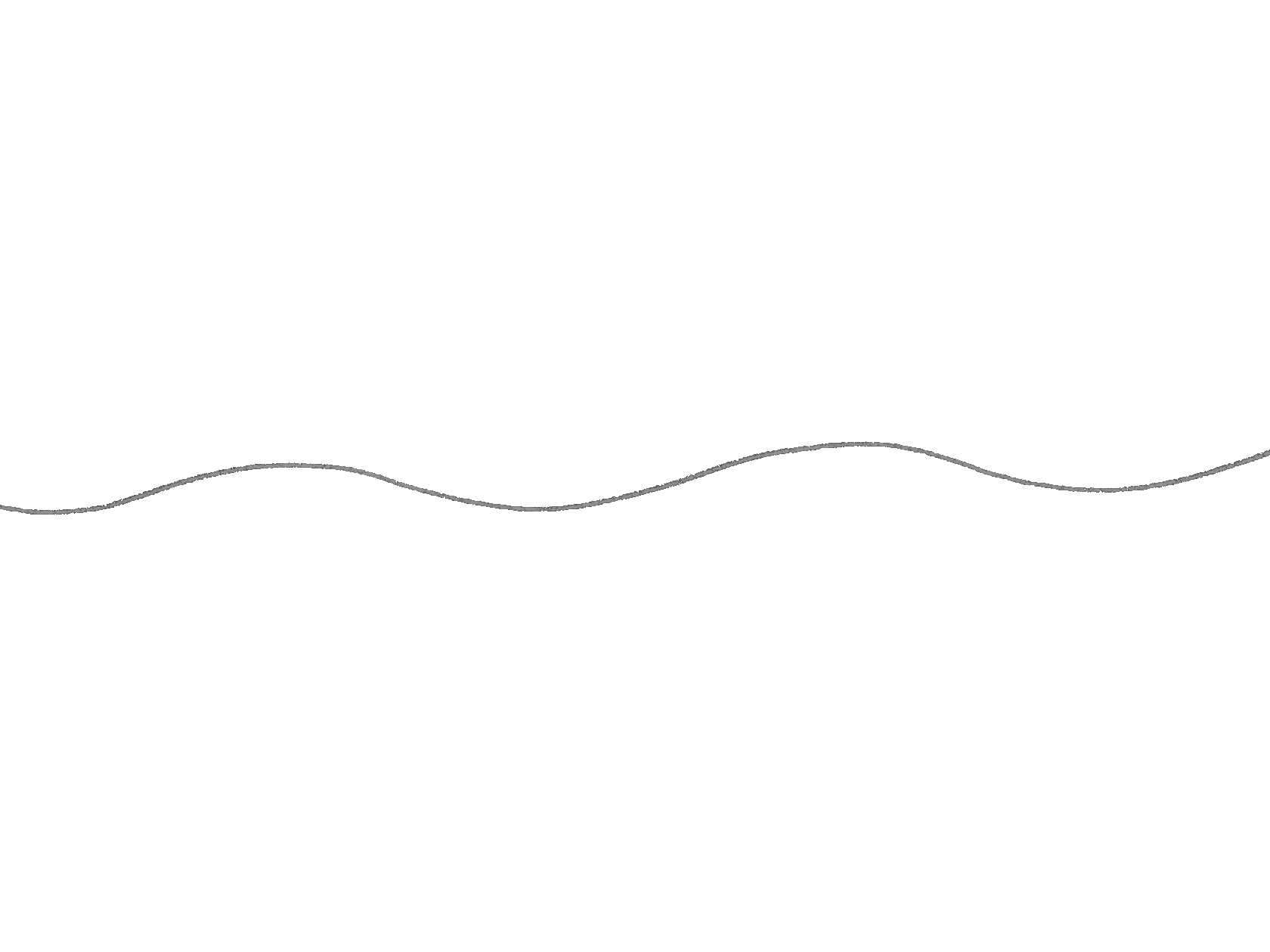
И вот пока в Бергуле песни поют,
волнуется Тара
волнуется Тара
