Когда после разлуки бергульцы с трепетом возвращаются и работу здесь по душе находят, тогда волнуется Тара
Запорошена снегом
Изгородь у избы,
И примяты бегом
Все осколки судьбы.
У окошка старушка
Что-то тихо поёт.
И, качаясь, избушка
В ритме песни живет.
Только ветер несется,
Заметая пути.
И уже не вернётся,
Хоть лети не лети.
Я к забытой избушке
Сквозь туманы пройду.
Своей милой старушке
Что хотела, скажу.
Время так пролетело,
Постарела изба.
Ты же, мама, хотела,
Чтоб свела нас судьба.
Пусть прошло лет немало,
Пусть метель замела
Путь в Сибирь, но я знала,
Что меня ты ждала.
Изгородь у избы,
И примяты бегом
Все осколки судьбы.
У окошка старушка
Что-то тихо поёт.
И, качаясь, избушка
В ритме песни живет.
Только ветер несется,
Заметая пути.
И уже не вернётся,
Хоть лети не лети.
Я к забытой избушке
Сквозь туманы пройду.
Своей милой старушке
Что хотела, скажу.
Время так пролетело,
Постарела изба.
Ты же, мама, хотела,
Чтоб свела нас судьба.
Пусть прошло лет немало,
Пусть метель замела
Путь в Сибирь, но я знала,
Что меня ты ждала.
Татьяна Подъява
О заболоченном прошлом этих мест напоминают только летний зной и гнус.
Хотя при кержаках и первых поколениях бергульцев там, где сейчас улицы Бажова
и Центральная, ещё стояла топь.
Алексей Логинович Старков вспоминает,
что брат его деда Сави́н сам болото осушал. Как поселился он на той улице, вручную прокопал канаву, чтобы застоялую воду спустить. Мокрядь со двора ушла — распахал землю под огород, обжился. Так род Старковых в Бергуле́ и закрепился.
«Я последний корень здесь» — заключает Алексей Логинович. Прадеды, деды
и родители Старковы жили на этой земле. Выйдет, бывало, отец Логин на крыльцо усадьбы, мимо утки летят, он подстрелит несколько, мясо к ужину готово.
Хотя при кержаках и первых поколениях бергульцев там, где сейчас улицы Бажова
и Центральная, ещё стояла топь.
Алексей Логинович Старков вспоминает,
что брат его деда Сави́н сам болото осушал. Как поселился он на той улице, вручную прокопал канаву, чтобы застоялую воду спустить. Мокрядь со двора ушла — распахал землю под огород, обжился. Так род Старковых в Бергуле́ и закрепился.
«Я последний корень здесь» — заключает Алексей Логинович. Прадеды, деды
и родители Старковы жили на этой земле. Выйдет, бывало, отец Логин на крыльцо усадьбы, мимо утки летят, он подстрелит несколько, мясо к ужину готово.
«Вот бы были у меня крылья, как у вуточки,
не жила бы я в Бергуле ни одной минуточки», — сказывала частушку бабушка Татьяны Подъява — заведующей музеем имени Павла Петровича Бажова. Ради шутки, конечно, о Бергуле́
так говорили: кто против воли здесь жил,
все разъехались, разлетелись. А вот род Татьяны
с основания села идёт. И родовая связь с этим местом крепкая, такая, что даже окрылившись — получив образование, обзаведясь семьёй —
не улетают из села. Может, потому
что с высоты Бергуль ещё красивее.
не жила бы я в Бергуле ни одной минуточки», — сказывала частушку бабушка Татьяны Подъява — заведующей музеем имени Павла Петровича Бажова. Ради шутки, конечно, о Бергуле́
так говорили: кто против воли здесь жил,
все разъехались, разлетелись. А вот род Татьяны
с основания села идёт. И родовая связь с этим местом крепкая, такая, что даже окрылившись — получив образование, обзаведясь семьёй —
не улетают из села. Может, потому
что с высоты Бергуль ещё красивее.
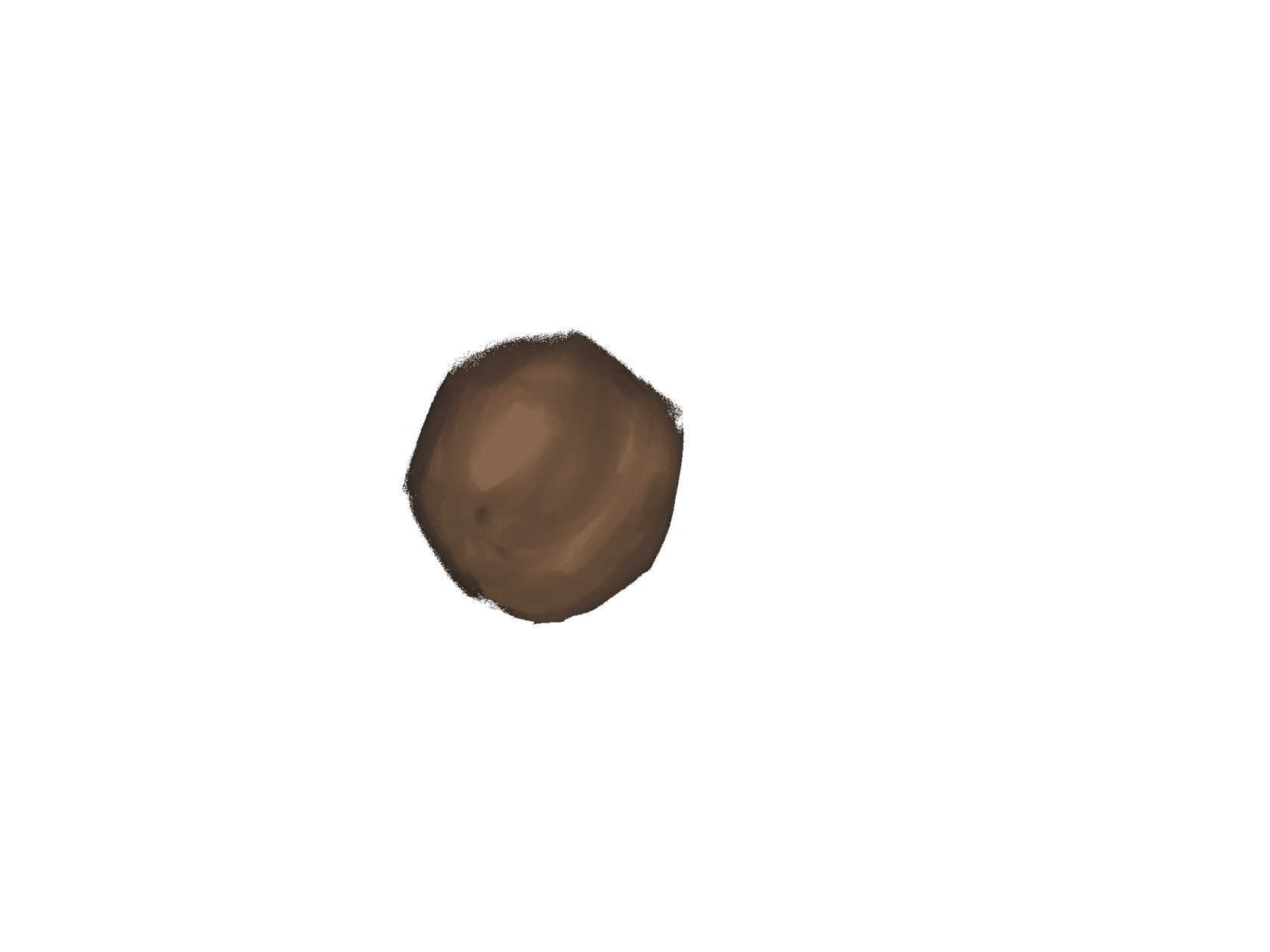
сделать кирпичи

Первой в Бергуле замечают красавицу Тару.
Река — владычица села: и накормит, и напоит, и обстирает, и умоет.
Река — владычица села: и накормит, и напоит, и обстирает, и умоет.

На Таре в Бергуле не только дома, церковь да баню ставили. В послевоенное время нужно было хозяйство восстанавливать. Наудачу раскопали у берега глинистое отложение. Пришедший с фронта Яков Амбросимович Прокофьев понемногу стал в луке́ вдоль берега глину копать и «кирпич» делать. Там же вблизи воды соорудили навесы, чтобы глину месить и сушить. Прозвали этот промысел местным «кирпичным заводом». Во многих домах до сих пор печки из этого кирпича стоят. А усадьбы все как одна — деревянные. Лесу всегда было много, и дерево — первый подручный материал. Урман и Тара — главные помощники бергульцев.











Хоть речка в сибирскую зиму быстро застывает, зато к источнику следы снегом не успевает замести. Кто рядом живёт, каждый день прибегает за водицей. Даже из соседнего села, из Платоновки, раньше через мосток по воду ходили. Теперь в Платоновке никто не живёт.
Хотя когда были колхозы, и в Платоновке, и в Бергуле жизнь
и работа кипели в несколько ударных смен. Сейчас же основная часть мужского населения уезжает работать вахтовым методом
на Север, отцы и мужья месяцами дома не бывают. В селе ещё остаётся сезонная работа у частных предпринимателей — заготовить дрова, например. Всего на весь Бергуль приходится чуть больше полсотни рабочих мест. В школе и дошкольной группе
15 специалистов, 14 человек техперсонала, в том числе кочегаров,
10 членов совета и работников ЖКХ, 9 мест в клубе, 3 должности при музее, ещё 3 в фельдшерско-акушерском пункте
и 2 сотрудника в магазинах. Открылось бы в Бергуле, в ягодном
и грибном плодородном краю, фермерское хозяйство…
и работа кипели в несколько ударных смен. Сейчас же основная часть мужского населения уезжает работать вахтовым методом
на Север, отцы и мужья месяцами дома не бывают. В селе ещё остаётся сезонная работа у частных предпринимателей — заготовить дрова, например. Всего на весь Бергуль приходится чуть больше полсотни рабочих мест. В школе и дошкольной группе
15 специалистов, 14 человек техперсонала, в том числе кочегаров,
10 членов совета и работников ЖКХ, 9 мест в клубе, 3 должности при музее, ещё 3 в фельдшерско-акушерском пункте
и 2 сотрудника в магазинах. Открылось бы в Бергуле, в ягодном
и грибном плодородном краю, фермерское хозяйство…

Пятилетняя Лида, дочка Нины Долнер, руководительницы детской фольклорной группы «Ленок», мечтает стать ветеринаром, первым
в Бергуле. Лида пока не знает, здесь ли будет работать, потому что в родном селе негде лечить животных. Вот и приходится бергульцам
лишь вспоминать, как в их родных краях
каждому была работа.
в Бергуле. Лида пока не знает, здесь ли будет работать, потому что в родном селе негде лечить животных. Вот и приходится бергульцам
лишь вспоминать, как в их родных краях
каждому была работа.
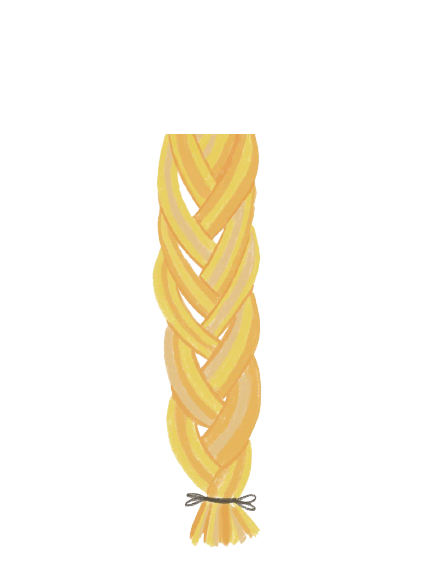
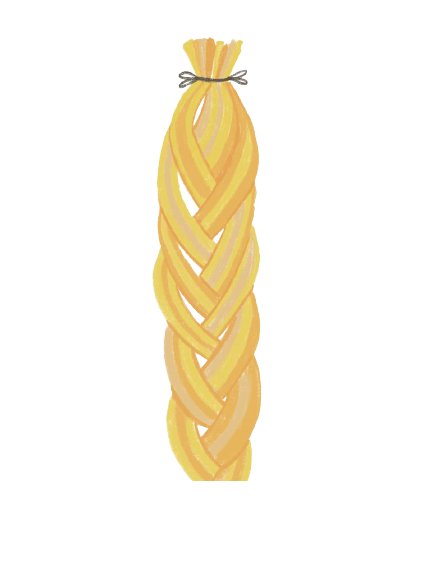
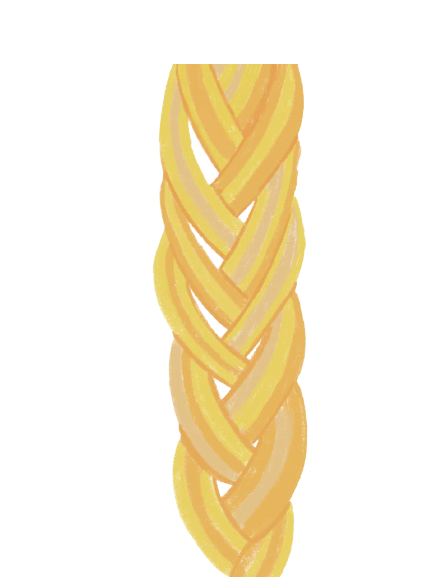
До войны жил в Бергуле мастер — на всё село соломенные корзины, севолки с лямкой через плечо, лукошки плёл. На фронте потерял руку, вернулся домой и продолжил своё дело. В краеведческом музее Бергуля и сейчас его работы хранятся — время им ничего не сделало. Мало того что корзины с одной рукой плести у него получалось не хуже, так он ещё сам в поле выходил зерно засевать.
Трудолюбия бергульцам не занимать.
А после работы и на праздники хорошо на ложок
к реке выйти песни попеть и в игры поиграть.
Трудолюбия бергульцам не занимать.
А после работы и на праздники хорошо на ложок
к реке выйти песни попеть и в игры поиграть.

В одну крепкую цепочку сплетаются поколения бергульцев, скрепляются традициями и фольклором.
И если затянет «Плетень» ансамбль «Вечёрка»,
где основной состав — люди старшего поколения,
а на подхвате преемники — Нина и Татьяна, то и детская группа «Ленок» не растеряется и в стороне не простоит.
И если затянет «Плетень» ансамбль «Вечёрка»,
где основной состав — люди старшего поколения,
а на подхвате преемники — Нина и Татьяна, то и детская группа «Ленок» не растеряется и в стороне не простоит.

«Идёшь по селу, дети, хоть их и немного, шумят, балуются, и сердце радуется,
и на душе светло», — говорит Полина Григорьевна Халява, учитель словесности
в бергульской школе. За окном её кабинета виднеется школьный двор. Просторно
в нём высажены ели и плодовые деревья. Их ещё ученик Алексей Старков сажал. Яблочки эти да черёмуху ученицы Полины Григорьевны Женя и Катя очень любят.
и на душе светло», — говорит Полина Григорьевна Халява, учитель словесности
в бергульской школе. За окном её кабинета виднеется школьный двор. Просторно
в нём высажены ели и плодовые деревья. Их ещё ученик Алексей Старков сажал. Яблочки эти да черёмуху ученицы Полины Григорьевны Женя и Катя очень любят.

«Калины горечь, сладость земляники.
И прячется в листве куст костяники.
На пне семейка дружная опят,
И первые грибы на нас глядят.
А в рям пойдешь — ты только не зевай,
Дары в корзину шустро собирай.
Орехи, клюква, да брусника
И чудо ягода, зовется голубика —
Всем балует нас щедрая земля»
Татьяна Подъява
И прячется в листве куст костяники.
На пне семейка дружная опят,
И первые грибы на нас глядят.
А в рям пойдешь — ты только не зевай,
Дары в корзину шустро собирай.
Орехи, клюква, да брусника
И чудо ягода, зовется голубика —
Всем балует нас щедрая земля»
Татьяна Подъява
Татьяна написала стихотворение «Мой край родной» в разлуке
с домом, пока получала высшее образование в соседнем районе. Тогда тосковала по Бергулю́, местам, знакомым с детства, и строчки сами за воспоминаниями пришли. Будто снова на пастбище с отцом на коне едут, он косой срезает молодые стебли, и их обдаёт душистым ароматом свежей травы.
с домом, пока получала высшее образование в соседнем районе. Тогда тосковала по Бергулю́, местам, знакомым с детства, и строчки сами за воспоминаниями пришли. Будто снова на пастбище с отцом на коне едут, он косой срезает молодые стебли, и их обдаёт душистым ароматом свежей травы.
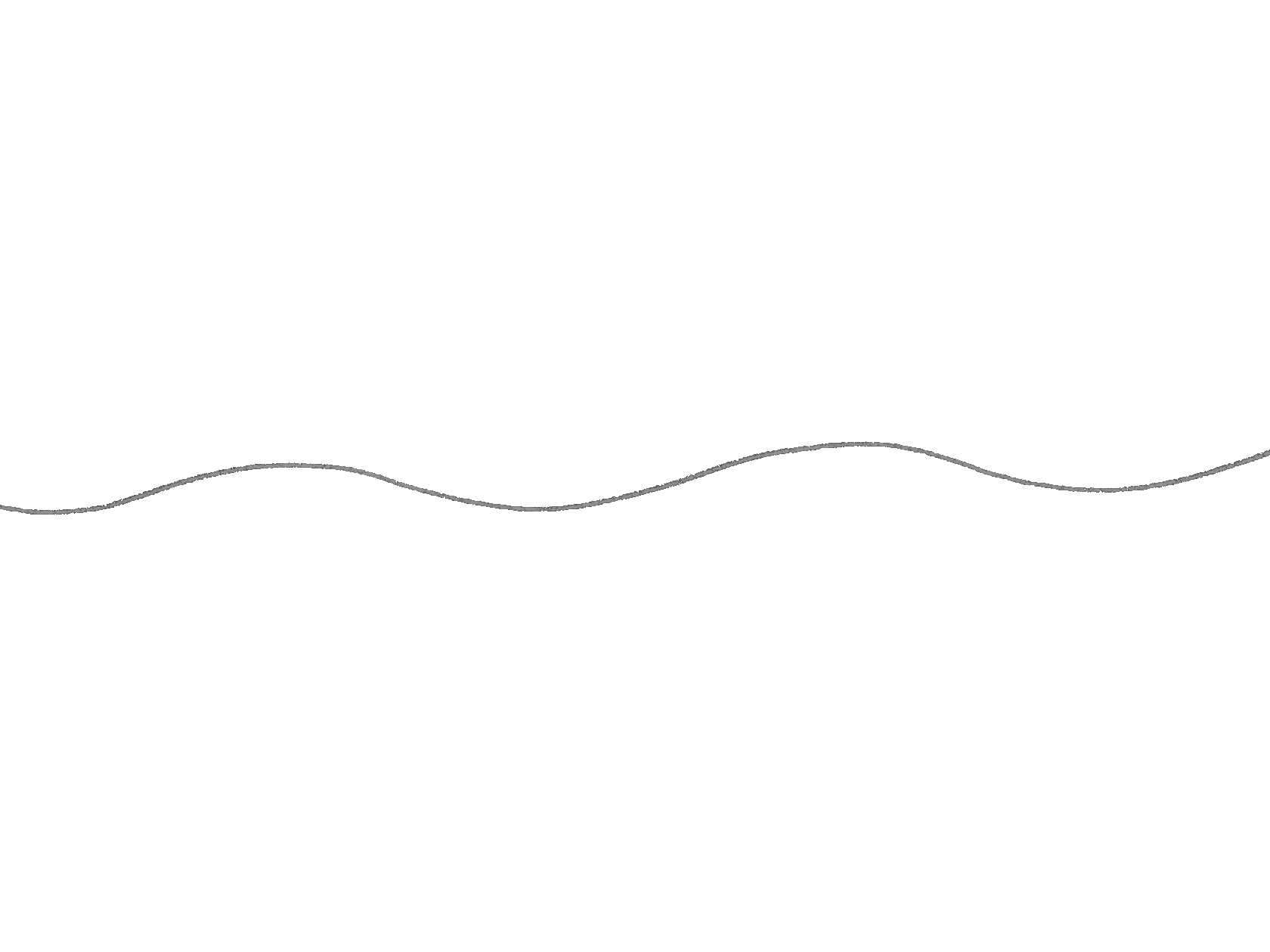
Пока есть кому школьный сад засаживать, и выпускники в стихах помнят Бергуль, Тара волнуется
